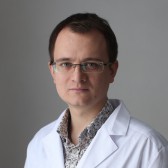Андрей Реутов:
Очередной выпуск передачи «Нейрохирургия с доктором Реутовым» будет посвящена эпилепсии. Не просто эпилепсии, мы уже неоднократно разбирали возможные причины, возможные методы лечения данной патологии, а именно генетической диагностике эпилепсии. Тема очень интересная, актуальная, у многих на слуху. Сегодня мы постараемся разобраться, что же это такое: некая дань современной медицинской моде или, на самом деле, последняя надежда для пациентов, которые страдают и не могут подобрать себе лечение от данного заболевания? Тема для меня абсолютно новая. Я пригласил в студию своего друга, коллегу, Артема Алексеевича Шаркова, который является не просто эпилептологом, неврологом, но еще нейрогенетиком, то есть многопрофильный специалист. Исходя из большого количества его специальностей, скорее всего, сегодня у нас будет не дискуссия, потому что я мало что смогу добавить и привнести в наш разговор, а будет, я надеюсь, очень интересный монолог от первого лица.
Артём, спасибо большое, что пришли. Давайте вначале определимся (я, по-моему, уже спрашивал гостей предыдущих эфиров), как мы с вами будем называть? Что это? Эпиле́псия или эпилепси́я? Какая это школа? Какой терминологией будем пользоваться?
Артем Шарков:
Всем привет! Очень приятно здесь присутствовать. Возвращаясь к вопросу, по сути, это разные школы. Кто-то говорит «эпиле́псия», кто-то «эпилепси́я». Я и так, и так использую термин, в зависимости от того, я думаю больше англоязычными терминами в какой-то концепции…
Андрей Реутов:
Англоязычный – это эпиле́псия?
Артем Шарков:
Эпиле́псия, epilepsy... Контекст вопроса, который мы обсуждаем, больше рассматривался на отечественных конференциях. Даже внутри страны, даже внутри одного города есть разные школы, разные течения. По сути, не важно. Главное – как вы этот термин применяете.
Андрей Реутов:
Я понял. Если позволите, я во время эфира буду называть и так, и так, потому что я для себя до сих пор не определился, как будет правильно.
Первый вопрос для меня основной как для хирурга: какая связь между генетикой и эпилепсией? Мы обсуждали на предыдущих эфирах, что есть определенный алгоритм диагностики. Это МРТ-исследования, консультация эпилептолога для определения того, какие обследования нам дальше сделать –пусть это будет видео-ЭЭГ-мониторинг. Теперь мы узнаём абсолютно новый метод. Точнее, мы про него слышали на конференциях, но я уверен, что многие даже не в курсе, что есть еще такой метод диагностики как генетический. Какая связь, вообще?
Артем Шарков:
Стоит сразу отметить, у нас немножко поменялась классификация, концепция восприятия эпилепсий, с которые были анонсированы еще в 2017 году. Раньше, по старой классификации, мы выделяли 3 основные группы ― симптоматическая, идиопатическая и криптогенная, то есть неизвестная, а сейчас по этиологиям выделяют 5 основных этиологий ― генетическая, структурная, инфекционная, метаболическая, иммунная и неизвестная, неизвестной природы. Генетическая – имеется в виду, что некие изменения генома являются основополагающими в формировании эпилептического фенотипа. Нужно понимать, что генетика вообще большинство определяет: как из оплодотворенной яйцеклетки сформируется взрослый человек со всеми его успехами.
В публикациях мы можем видеть, что вклад генетических факторов в эпилепсию достигает порядка 70-80 %. Но это не говорит о том, что мы в 70-80 % случаев всегда найдем генетическую причину. Только около 40 %, даже чуть меньше из них имеют моногенную причину. Сразу оговорюсь. Если выделять наследственную форму заболеваний, то их можно выделить как моногенные, то есть, имеется какой-то ген в последовательности нуклеотидов, нарушение в которых приводит к определенному фенотипу. Приблизительно всегда будет некое клиническое ядро признаков. И есть, так называемые, мультифакторные формы, когда есть изменения сразу во многих генах, и они складываются в некий пазл, вызывая предрасположенность. Это все наши традиционные идиопатические генерализованные эпилепсии, синдром Янца, абсансный. Пока мы не знаем четко моногенных форм, это предположение, и то, что много факторов влияет на формирование эпилептического фенотипа.
Андрей Реутов:
Для чего нам необходимо генетическое исследование? Оно нам позволяет избежать ненужной дальнейшей диагностики, если мы установили генетический фактор? Какова прикладная польза?
Артем Шарков:
Хороший вопрос, основополагающий. Его задают в 90 % случаев пациенты на консультации. Обычно отвечаю так. 4 основных момента. В первую очередь, диагноз. Зная диагноз, мы все последующие методы диагностики используем для контроля состояния, не для поиска причины. Поэтому диагноз позволяет избежать ненужных исследований. Пока ты не знаешь, в чем причина, ты будешь продолжать делать исследования.
Андрей Реутов:
В моем понимании диагноз – это «эпилепсия такая-то». Фокальная эпилепсия в моем понимании – диагноз. Или мы сейчас говорим о другом, более развернутом?
Артем Шарков:
Еще в более другом, развернутом.
Андрей Реутов:
Как это звучит, например?
Артем Шарков:
Например, мы находим патогенный вариант, по-старому – мутацию, в каком-нибудь гене. Мы понимаем, что именно этот вариант – ведущий в формировании такой клинической картины. Тогда мы имеем право вынести этот ген, например, SCN1A, а дальше – дефис и синдромологический диагноз, то есть «Генерализованная эпилепсия, фебрильные судороги плюс». Когда наш коллега увидит такой диагноз, он поймет: причина в гене SCN1A, который реализуется как генерализованные приступы с фебрильными приступами.
Андрей Реутов:
Вы сейчас правильно подчеркнули, что именно ваш коллега, потому что, я боюсь, далеко не все нейрохирурги на данном этапе смогут вникнуть в именно такую формулировку диагноза.
Артем Шарков:
Для хирургов это важно будет на будущее. Сам диагноз несет в себе некие прогнозы, то есть что мы ожидаем, какой реабилитационный потенциал, какие препараты будут эффективны, каких препаратов, наоборот, нужно избегать. Сейчас открывается новое направление, назовем его «генетико-хирургия эпилепсия». То есть мы понимаем, какие гены дают лучший прогноз по хирургии, а какие дают худший прогноз. Используя эти знания, мы можем заранее выбирать: идти на сложную операцию в попытке помочь, либо не идти. Очень мало, пока очень мало данных, единичные публикации. Если проанализировать эти случаи, видно, что есть гены, например, которые обуславливают каналопатии, нарушения взаимодействия между нейронами. Они имеют худшие исходы по хирургии. Вероятнее всего, это связано с тем, что, даже сформировав некую структурную патологию, которая потенциально курабельна (можно вырезать), все равно другие области мозга несут неправильный рабочий канал и приступы разовьются потом, в любом случае. Но, например, есть гены, которые можно отнести к определенным путям. Один из них называется m-TOR путь. Такие гены, как реализующиеся в туберозном склерозе (TSC1, TSC2), гены, которые ассоциированы с семейными фокальными корковыми дисплазиями PCPI.
Мы понимаем, какие гены дают лучший прогноз по хирургии, какие дают худший прогноз. Используя эти знания, мы можем выбирать: идти на сложную операцию, либо не идти.
Андрей Реутов:
То, что важно именно в хирургическом аспекте?
Артем Шарков:
Да. По сути, это потом будет важно и для семьи. Произошла, например, поломка в гене у пациента, реализовалась в виде нарушения нейрональной миграции. Например, фокальная корковая дисплазия. Вы, как хирург, увидели ее, определили, что да, потенциально курабельная зона, вылечили пациента. Но это чаще всего аутосомно-доминантное заболевание, и тогда его потомство будет иметь 50 %-ный риск точно такой же патологии. На текущий момент есть генетические методики, позволяющие при известной генетической природе заболевания нивелировать эти риски. Называется пренатальная, или ПГД диагностика. Пренатальная – это когда мама уже в положении, до 10-ой недели берется амниоцентез или кровь плода и смотрится, есть ли в клетках мутация. Семья принимает решение: стоит продолжать беременность или прерывать. Есть более гуманный метод, основанный на технологии ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), когда берут яйцеклетку, сперматозоид, соединяют и смотрят, есть ли этот вариант в эмбриончике. Если есть, соответственно, ничего с ним не происходит, а если нет, то есть он не несет патогенный вариант ― подсаживают женщине, и она вынашивает ребенка заведомо без данной патологии.
Андрей Реутов:
Получается, что данный метод диагностики может повлиять еще и на профилактику дальнейшего развития заболевания?
Артем Шарков:
Да.
Андрей Реутов:
Как выполняются генетические исследования? К вам приходит пациент, что вы ему озвучиваете? «Мы вам будем проводить генетическое исследование». Он говорит: «Доктор, а что мне сдавать?» Как это все происходит? Как долго это растянуто во времени? Насколько достоверны результаты?
Артем Шарков:
Сразу небольшой дискламер. Мы должны понимать, что генетическая поломка – это не что-то одно. Это не сломался ген, и всё. Он может сломаться очень разнообразными способами: от нуклеотидной замены, когда один нуклеотид меняется на другой или просто пропадает, либо может быть делеция, когда пропадает целый ген или много генов. Есть и другие формы, но чаще всего мы имеем дело либо с точковыми мутациями, либо с хромосомной патологией. Соответственно, методы, которые их ищут, также имеют технические ограничения. При подозрении на один вид поломки мы используем один метод, а для другого вида ― другой.
Сейчас можно выделить следующий алгоритм. Допустим, мы подозреваем генетическую природу заболевания. Если это какой-то специфический синдром, то есть я вижу: заходят с определенным фенотипом, есть лицевые особенности, может быть, особенности ЭЭГ (например, при синдроме Ангельмана паттерн ночи – дельта), то я не буду сразу делать полногеномное секвенирование, я начну с таргетной диагностики. При том же синдроме Ангельмана можно начать с метилирования гена. Если я не вижу специфического синдрома, то есть я предполагаю группу нозологий, которые гетерогенно, например, эпилептические энцефалопатии, либо таргетная диагностика первоначально не дала мне ответа, то сейчас наиболее целесообразно использовать крупные генные панели. Например, панель «Наследственная эпилепсия». Панель позволяет сейчас посмотреть большинство генов, ассоциированных с эпилепсией, преимущественно связанных с более компактной поломкой генов. Я говорю про нуклеотидные замены, или инделы.
Если мы видим специфический фенотип, подозреваем хромосомную патологию, например, маловесный ребенок при доношенной беременности. Если есть какие-то малые аномалии развития.
Андрей Реутов:
Стигмы.
Артем Шарков:
«Стигмы» – это наш русский, отечественный термин. Сейчас в неонтологии более правильно использовать «малые аномалии развития». Если есть множественные врожденные пороки развития органов и систем, то мы можем подозревать системную поломку, затрагивающую сразу много генов. Тогда методом выбора будет являться хромосомный микроматричный анализ.
Нужно понимать, что несмотря на наличие определенных признаков, позволяющих нам выбрать тот или иной метод, они не взаимоисключающие. То есть, мы сделали панель, ничего не нашли – раньше мы шли на хромосомный микроматричный анализ, если не нашли на ХМА – мы шли на панель. Но в итоге верхушка такой диагностики, которая позволяет включить в себя большинство тестов первого, второго уровня, – это полногеномное секвенирование. Оно позволяет посмотреть все гены, даже те, которые еще недостаточно изучены и не ассоциированы с каким-либо заболеванием. Они позволяют посмотреть не только экзоны (области ДНК, с которых считывается белок), но и межэкзонные промежутки, называются интроны. Межгенные. Там находятся различные регуляторные элементы, которые говорят, с какой скоростью с этого гена будет считываться белок (продукт), и могут тормозить его или полностью выключать.
Можно посмотреть митохондриальные ДНК. Например, есть эпилепсии, которые могут реализовываться не только за счет повреждения ядерных ДНК, то есть то, что в клеточке находится, но и за счет митохондриальных ДНК. Митохондрии – это маленькие энергетические станции, которых очень много в самой клетке. Если они нарушаются, повреждаются, то клетки страдают, им не хватает энергии для своей работы. Геном за счет того, что в нём очень равномерное покрытие, нет пиков покрытия, как при других методах NGS-диагностики, они позволяют очень четко видеть перестройки, то, что я называл «делеция», «дубликация», даже совсем маленького уровня. Даже появляются алгоритмы, пока они только внедряются в клиническую практику, которые позволяют видеть экспансии тринуклеотидных повторов. Это, чтобы было понятно, множественные повторения нуклеотидов. Тринуклеотидный значит три нуклеотида. И так дальше, любые. Болезнь Гентингтона – один из самых известных тринуклеотидных повторов.
Генетические исследования – не исключающие. Нельзя сделать анализ и сказать: всё, это не генетика. Когда есть генетика – мы можем только подтвердить.
Андрей Реутов:
Если подытожить, я правильно понимаю, что нет такого волшебного анализа, чтобы прийти и сказать: «Доктор, я хочу исключить. Возьмите у меня сейчас кровь, и получим». Все равно играет роль человеческий фактор и фактор врача, который принимает решение: в каком объеме в данном конкретном случае необходимо провести исследования, в зависимости от того, что он видит фенотипически, в зависимости от анамнеза и клинических проявлений заболевания. Вы не предлагаете всем подряд: а давайте-ка, от А до Я сдадим.
Артем Шарков:
Нужно понимать еще следующее. Генетические исследования – не исключающие. Нельзя что-то сдать и сказать: всё, это не генетика. Когда есть генетика – мы можем только подтвердить. Например, когда я только начинал заниматься ранними эпилептическими энцефалопатиями в 2015 году, в группе ранних эпилептических энцефалопатий было всего 15 генов, а сейчас их уже 66. Наука не стоит на месте. Мы открываем новые гены, новые ассоциации, новые гены, ассоциированные с новыми фенотипами. Крупные исследования, такие как полноэкзомное секвенирование, полногеномное секвенирование, – это генетический паспорт, они позволяют переанализировать данные хоть каждый год с учетом того, что откроется что-то новое.
Андрей Реутов:
Как очередной пересмотр, переиздание новой редакции?
Артем Шарков:
Да, по сути так и есть. Улучшаются методы биоинформатического анализа. Раньше геном был избыточен. Большинство полученных данных были сложны для интерпретации, не знали, что с ними делать. Сейчас все больше и больше консорциумов, международных объединений, используют именно полногеномные методы для поиска новых ассоциаций, новых генов, новых причин заболеваний. Но, всё равно, даже самый крутой метод, каким бы он не был впечатляющим, не дает нам 100 %-ной выявляемости. Все равно есть человеческий фактор, насколько хорошо врач понимает генетические критерии и биологические особенности. Мы не все можем, есть технические ограничения. Мы не все области хорошо можем прочитывать до сих пор. Не все гены еще открыты, не все ассоциированы с заболеваниями.
Андрей Реутов:
Вы затронули важный аспект профилактики. Понятно, что очень важно установить причину, однозначно – подбор терапии, но вы заговорили еще и профилактике, о важном аспекте. Скажите, пожалуйста, а вся ли генетика наследуется? Это 100 %-ный приговор или есть определённые критерии наследования? Если да, то по какому принципу происходит наследование? Можем ли мы с помощью генетического исследования определить заболевание?
Артем Шарков:
Вообще, генетику не надо считать приговором, генетическое заболевание не как приговор. Это, наоборот, информация, которая позволяет правильно спрогнозировать и создать менеджмент вокруг пациента. Основные пути реализации заболевания, например, аутосомно-доминантные. Наверное, надо на пальцах показывать. У нас гены в парах, по две штучки. Называются аллели. Есть заболевания, для появления которых достаточно повредить одну половинку. Называются аутосомно-доминантные, если связаны с аутосомами. Если с половыми хромосомами X и Y, мы помним, что так же реализуются. Есть другие заболевания, аутосомно-рецессивные, для их реализации нужно повредить обе копии гена. Отсюда идет уже генеалогический анализ. Если у ребенка происходят тяжелые эпилептические энцефалопатии, мы находим вариант, который повреждает одну половинку, одну копию гена. Но мы смотрим еще родителей и ожидаем, что у них ничего не будет. Такую поломку мы называем de novo – вновь возникшая, спонтанная. Мы все с вами, на самом деле, носим много мутаций. Они определяют нашу изменчивость: цвет волос, глаз, рост, наши способности. Некоторым меньше повезло, их мутации попадают в важные области, и развиваются заболевания. В случаях, когда повреждаются две половинки гена, мы смотрим родителей и ожидаем, что каждый будет нести по половинке. Они не будут болеть, у них есть здоровый аллель, с которого будет производится белок, а ребенку меньше повезло: он попал в 25%, когда у него соединились два больных аллеля. Он тоже может иметь только один больной ген, будет носителем, не будет болеть, либо он может быть больным в 25 % случаев.
Андрей Реутов:
Вы сейчас очень здорово и наглядно, как мы говорим, «на пальцах» показали. У меня возник вопрос: можете ли вы диагностировать всё, или есть ограничения в плане генетики? Ведь вы начинали эфир с того, что есть мультифакторные, либо это зависит от одного. Какие ограничения данного метода? Что это такое?
Артем Шарков:
Есть ограничения, абсолютно есть, без них никуда. Как я уже рассказывал, есть моногенные заболевания. Если мы знаем ген, у нас есть определенные критерии ACMG, общепринятые критерии Американской коллегии медицинской генетики. Любая лаборатория использует их при оценке каждого варианта, который попадается им в исследовании. Наверное, нужно пару слов сказать, что чаще всего анализируется.
Наша ДНК – это некий набор буковок, нуклеотидов, которые потом считываются ферментом и реализуются в мРНК. МРНК загоняется в рибосомы и по специальным кодонам (это триплеты по три нуклеотида) кодируют определенную аминокислоту. Они загоняются в рибосомы и оттуда формируется цепочка белка, какого-то пептида из аминокислот. Потом этот белок по определенным химическим реакциям скручивается, образует вторичную, третичную, четвертичную природу. Потом уже образуются межбелковые взаимодействия, они формируют ферменты (всё, что в нас есть, – по сути, всё белковое), и всякие -омики: протеомики, метаболомики.
Андрей Реутов:
Слишком сложно. Не будем углубляться.
Артем Шарков:
Да, не будем. В общем, такая суть. Нуклеотидную последовательность можно ломать и анализировать, смотреть, что вот такой ген вызывает такое заболевание. Как я уже раньше говорил, может быть много либо генов, либо других меняющих факторов, влияющих на все этапы, о которых я рассказал. Их мы пока не очень умеем определять. У нас очень распространено, проводятся различные исследования по полиморфизмам. Они, наверное, излишне популяризованы и в нашей стране, и не только в нашей стране. Сейчас к ним более скептическое отношение. Невозможно на тридцати человеках, посмотрев два полиморфизма, делать прогностические выводы: будут фебрильные судороги передаваться в эпилепсию или не будут. Сейчас большие международные группы для поиска взаимосвязей используют, так называемый, GWAS, genome wide association studies. То есть используют десятки тысяч пациентов и еще в два – в три раза больше здоровых, которые не несут эпилепсию, и смотрят: какие варианты чаще встречаются при эпилепсии, а какие реже, и как у здоровых. Но мы пока не имеем достаточно мощности, чтобы проанализировать мультифакторные заболевания. Мы пока можем сконцентрироваться только на конкретно моногенной природе.
Андрей Реутов:
То есть я правильно понимаю, что пока не изобрели некую волшебную кнопку, нажав на которую, полностью бы отпала необходимость в диагностическом поиске?
Артем Шарков:
Во врачах.
Андрей Реутов:
Во врачах. Чтобы не ломать голову, знать семиологии приступов ― такого, к сожалению, нет. Понятно, что вам, как специалисту, который развивает данную тему, хотелось бы, чтобы глобально все пациенты проходили через исследование. Но, из практики, каков процент пациентов, которым, на ваш взгляд, объективно нужно проведение такого исследования? Понятно, что, если попали к вам – вы рекомендуете. Но в общей популяции?
Артем Шарков:
Далеко не всех.
Андрей Реутов:
Но, как? Понятно – фенотип, вы рассказали про малые аномалии развития. Каков примерный процент пациентов, которые идут к вам на именно генетические методы?
Артем Шарков:
Для начала нужно назвать определенные критерии. Например, и по данным лаборатории «Геномед», где я работаю, и по международным данным: чем раньше дебют эпилепсии, тем с большей вероятностью мы можем найти конкретную моногенную природу заболевания. Чем он позже, тем с меньшей, соответственно. Я сейчас говорю только про эпилепсию. Также есть определенные, скажем, красные флаги, которые позволяют задуматься больше в пользу генетической природы. Это отсутствие пренатальных осложнений, либо осложнения, которые были при беременности, в родах, не коррелируют, не соответствуют текущей тяжести состояния ― допустим, фармакорезистентные, трудно поддающиеся лечению приступы, сопровождающиеся регрессом. Нередко они связаны именно с генетикой. Недавно даже новый термин был введен в новую классификацию, development encephalopathy, то есть энцефалопатия развития, когда, по сути, не массивная эпилептиформная активность, не частые приступы влияют на регресс, а, допустим, приступов нет или активность единичная, а ребенок все равно задержан. То есть подразумевается, что сам генетический вариант мешает нормальному развитию головного мозга, мешает взаимодействию между клетками. Может быть так, что данный генетический вариант реализуется, как снижением потолка возможностей ребенка, так и за счет формирования приступов, и эти приступы могут делать еще хуже. Мы справляемся с приступами, но выше параллельного уровня мы не можем прыгнуть. Все лежит в гене.
Если говорить про другие красные флаги, то миоклонические приступы чаще всего ассоциированы с генетической патологией. Как я уже говорил, определенные аномалии развития, малый вес при доношенной беременности, внутриутробные приступы. Это очень значимый фактор, который чаще всего мы видим при болезнях обмена, например, пиридоксин-зависимая эпилепсия. Если были, семейный анамнез тоже нам много дает. Либо, например, были случаи внезапной смерти предыдущих детей в семье. Это, скажем так, небольшой список, мы можем еще его дополнять в зависимости от некоторых нюансов. Но мы смотрим далеко не всех. Чаще всего мы просматриваем все данные ― ЭЭГ, МРТ, оцениваем анамнез. Если мы видим несоответствия того, что было, и того, что есть на ЭЭГ и на МРТ, текущему состоянию, – мы тогда думаем про возможную генетическую форму.
Андрей Реутов:
Это не просто ― человек пришел, «а давайте, ему сделаем».
Артем Шарков:
Если бы это было в рамках бесплатной диагностики, делали бы всем. Но сейчас нет. Многие хотят, но, наверное, нет большой значимости. Потому что не будешь же при идиопатической генерализованной эпилепсией, синдромом Янца делать моногенную, когда этого ничего нет.
На текущий момент есть генетические методики, позволяющие при известной генетической природе заболевания нивелировать риски поломки в гене у пациента.
Андрей Реутов:
Я помню (возможно, ошибаюсь), что первые генетические исследования, исследования первых экзомов, стоили баснословные, космические суммы денег. Понятно, что и сейчас это тоже недешево, но, тем не менее, мне кажется, что более доступно должно стать.
Артем Шарков:
Первое полноэкзомное секвенирование, которое было использовано в клинической практике, не как высокая наука, а именно в клинике, было только в 2011 году. Тогда лаборатория Ambry Genetics продавала его за 10 тысяч долларов. Но технологии развиваются, стоимость падает. Если раньше экзом стоил очень больших, баснословных денег, и мы ходили с маленькими панельками из десятка – трех десятков генов, то сейчас мы можем за доступную цену собрать огромные панели больше двух тысяч генов. Цена, конечно ― не кофе сходить попить, но 35 тысяч для того, чтобы иметь достаточно большую вероятность поставить генетический диагноз и после этого спрогнозировать лечение, тактику ведения, – наверное, того стоит. Даже полногеномное, если мы говорим про верхушку диагностики, тоже сейчас стало достаточно доступным. В России сейчас можно за 100 тысяч сделать полное секвенирование генома. Это исследование, которое у вас останется на всю жизнь. Вы можете его переанализировать.
Андрей Реутов:
По сути, как ваш паспорт, да?
Артем Шарков:
Да. Многие страны даже здоровым делают такой паспорт. За ним будущее. Когда супруги планируют беременность, они соединяют свои геномы и смотрят, где может быть плохая, аутосомно-рецессивное заболевание? Так тоже возможно.
Андрей Реутов:
Да, финансовая тема болезненна зачастую и для пациентов, и для врачей, которые вынуждены направлять на дорогостоящие исследования. Тем не менее, если я правильно понимаю, что постановка именно диагноза, не просто диагноза эпилепсия, с которым человек пришел к вам, а когда он уже получает свои волшебные циферки генетического исследования, они позволят на основании этого диагноза выработать, как минимум, прицельную терапию, то, что мы называем таргетной терапией. Мы пока говорим про консервативные методы лечения.
Артем Шарков:
Тут тоже есть нюансы. Например, есть группа исследователей в Австралии. Мне очень нравится их дизайн. Они взяли порядка 110–117 пациентов с дебютом эпилепсии до 18 месяцев, у которых предполагали именно генетическую форму, но не только, то есть не знали точно, с чем связано, и поделили всю диагностику на 3 этапа. В первый входили разные ЭЭГ длительные, простая МРТ, разные скринирующие анализы крови. Вторым этапом уже шли метаболические скрининги, смотрели таргетные гены. Потом был третий этап – МРТ по эпилептологическому протоколу. Четвертым была биопсия. У кого нашли предположительную причину ― посмотрели, сколько потратили денег. На самом деле всё было виртуально. Сразу после первого этапа они всем сделали полноэкзомное секвенирование, посмотрели, насколько увеличилась выявляемость. То есть сверху еще 10 человекам, 10 пациентам поставили диагноз, сколько исследований можно было не делать. Тем самым показали, что, во-первых, общий ценник диагностики всех пациентов резко упал, то есть это кост-эффективность, это эффективность диагностики по своей стоимости. Во-вторых, они большему количеству смогли поставить диагноз. Сейчас есть очень интересное объединение, называется UDN, Undiagnosed Diseases Network. Оно спонсируется NIH, Национальный институт здравоохранения в Америке, то есть денег достаточно. Объединение представляет собой 7 клинических центров с координационным центром, с центрами функциональной диагностики, где можно в том числе делать модифицированных животных ― грубо говоря, в животное можно внедрить ген. Точнее, не внедрить ген, а смоделировать больной ген человека и смотреть, как реализуется заболевание и чем можно полечить, и потом уже экстраполировать на людей. Этот центр брал только тех, у кого не был поставлен диагноз, при наличии одного основополагающего хорошего анализа, то есть большинство из пациентов уже были с полноэкзомным секвенированием, а часть была с большим пулом исследований. Что интересно? Больше 40 % не диагностированных пациентов имели неврологические проблемы, то есть то, что к нам чаще всего приходят. А из тех, кого в итоге взяли в программу, 13 % еще только на переанализе данных.
Андрей Реутов:
При пересмотре, получается?
Артем Шарков:
Нет, посмотрели анамнез, посмотрели пациентов, – сказали: да у вас диагноз. И всё. Экспертные центры, все-таки. Но больше, чем половине пациентов диагноз был поставлен с помощью генетических методов. Они делали полноэкзомное секвенирование и полногеномное. Что интересно, когда они делали полноэкзомное после полногеномного секвенирования, полностью переделывали, выявляемость была всего 11 %, а когда они сделали полногеномное после полноэкзомного, то выявляемость была практически 50 %. Я к тому, что наука не стоит на месте. Методы наращивают свою мощность, и это было важно в том числе. В статье, которая рассказывала про это образование, что больше трети пациентов – повлияло на генетическое консультирование, позволило спрогнозировать деторождение и повлияло на дальнейшее планирование беременности, а меньше трети – с помощью полученных данных было смодифицировано лечение. То есть мы понимаем, что не только какие препараты могут улучшить состояние, но каких препаратов нужно точно избегать, потому что они могут ухудшить состояние. Да, не в 100 %, но вдруг вы как раз из тех тридцати, для которых информация будет значимой.
Андрей Реутов:
Артем Алексеевич, я сейчас понял одно: для разных типов нарушений нужны разные методы диагностики. Также очень важно вовлечение именно клинициста. И, как я понимаю, нейрогенетика разнонаправленная, находится на стыке нескольких специальностей: онкогенетика, кардиогенетика. Может быть, когда-нибудь у нас появятся хирургические моменты.
Артем Шарков:
Да. Может, вы и будете первым генетиком-хирургом.
Андрей Реутов:
После сегодняшнего эфира ― вполне.
Артем Шарков:
Да. Это очень важно, в том числе и для хирургов. Потому что уже сейчас есть данные, показывающие, как определенные гены могут влиять на исходы хирургии.
Андрей Реутов:
То есть для нас, хирургов, это на самом деле очень важно. Зачастую, мы видим перед собой проблему, которая нам кажется абсолютно очевидной, если пациенты прошли свое обычное обследование, мониторинг, консультации эпилептолога, и вроде как у нас все совпало. Но, если я правильно понимаю, даже это не может нам гарантировать правильность, но поможет нам в прогнозах.
Артем, если вам есть, что сказать, – пожалуйста. Я знаю, что вы какую-то школу регулярно ведете.
Артем Шарков:
Да. Мы с коллегами периодически делаем школы, примерно 3-4 раза в год, где делимся нашими знаниями и опытом в плане интерпретации и необходимости назначения генетических анализов. Также еще (надеюсь вы включите в ссылку), есть информационный канал, где мы с моим коллегой Селиверстовым Юрием Александровичем делимся последними новинками в области неврологии, нейрогенетики.
Андрей Реутов:
Я подписан на этот канал и периодически получаю оттуда нужную и важную, актуальную, современную информацию. Тема очень обширная, хотя, казалось бы, и узкая, но при этом так много веточек, которые можно запустить. Понятно, что мы не в начале пути, но еще столько перспектив для развития направления. Я вам желаю, чтобы вы с таким же энтузиазмом дальше продолжали развивать эту важную тему, как для и врачей-клиницистов, так и для пациентов, и для родителей пациентов, страдающих от эпилепсии. Мне понравилась фраза, которую вы сказали, что каждый год происходит как переиздание, появляются новые моменты. Мне бы хотелось, чтобы с каждым годом, или чаще, вы получали новые редакции, чтобы спектр заболеваний расширялся, чтобы мы подбирали ключики к каждому заболеванию. По сути, это некие космические технологии, но, если врач будет знать номер и у него будет ключик для того, чтобы подобрать лечение, – на мой взгляд, это безумно важно! Поэтому спасибо вам большое! Я для себя узнал очень много нового. Много осталось за кадром и непонятным, но, на самом деле, очень полезный эфир. Я надеюсь, еще с вами увидимся. Спасибо большое!